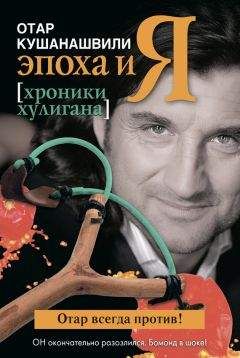Отар Кушанашвили - Я и Путь in… Как победить добро
Посмотрел. Что ж, у ФБ всегда было идеальное чувство абсурдного…
...Я, натурально, тот еще киновед полуграмотный, но уж лучше я десять раз посмотрю последнюю часть «Миссия невозможна» с ее мультяшной резвостью и пренебрежением к гравитации, чем на усы ФБ… Если хотите выяснить две вещи или убедиться в них: что мир еще полон открытий и что наши великие ушедшие актеры нынешним не чета, послушайте, как Олег Даль читает Лермонтова; тонкие мои, отговорки не работают: диски продаются в каждом киоске. Если вы хоть сколько-нибудь грамотны, такие работы помогут вам прочувствовать не все, но узловые закономерности тонкого мира…
Бондарчук ходит в кальсонах, у того, кто лучше Питта, два выражения – радостное и задумчивое, бьют фонтаны, каждого раз в две минуты бьют по роже независимо от того, задумчивая она или радостная. По этому кино трудно понять, что такое режиссер Андрианов, скорее всего, он «резов, но мил», что-то слышал про чувственные отношения, но убежден, что они бывают либо радостные, либо раздумчивые. Он хочет быть отстраненным Содербергом и тем корейцем, что снимает экзистенциальное дерьмо, – а на выходе получилась сплошная неловкость.
Его, режиссера, уверенность, что когда жарит солнце – это любви смысл, а когда темнеет – это предвестие эксцесса, даже не злит, а утомляет.
Как и его безудержная страсть к рапидам. Сколько я помню версию Акунина, там речь шла о печальном парубке, которого мысли о залпах войны делали потерянным, как Хаматову на Нике, а тут какой-то радостно-раздумчивый фигурант.
Я всю жизнь пасую при столкновении с химически чистыми гениями, резвыми, но милыми. Глядя на танцующего (танец, кстати, длится, как тайм матча Зенит – ЦСКА) Бондарчука, хочется воскликнуть чеховское: «За что мне это великолепие?!»
Что до сравнения Козловского с Б. Питтом… Фигуристо выражаясь, если Козловский – Брэд Питт, то Сергей Газаров – Джек Николсон, ну а я, знамо, – Чхартишвили.
Утро поэзии Ко Всемирному Дню Поэзии
Поэзию любит только тот, кто отличается полным достоинства жизнеприятием.
То есть я.
Поэзия помогает обрести твердую походку и внятную артикуляцию, быть сильным и честным; она нужна вечно балансирующим на грани морального и финансового дефолта пацанам и девахам; всем мазурикам и мамзелям, грезящим о получении патентов на звание порядочных парней и барышень соответственно.
Наша очевидная склонность режиссировать собственные страдания с годами все очевиднее же. Но ведь кроме бездны отчаяния поэзия концентрирует в себе и ощущения от мига на вершине, и обе эти «точки неспокойствия» резонируют в обоих случаях с твоими, а это и утешает, и радует. Больше того: мобилизует, осуществляет порыв к отрицанию дурного в себе.
Но все это не то, не те слова.
Потому что.
Определить, что она делает с нами, невозможно и с шестого раза, и с шестисотого. Наверное, гипотеза, что она переводит всё происходящее с нами в более высокий регистр, верна, сообщает значительный масштаб.
И тебе уже легче.
Качественный нарцисс
Я люблю (вот буквально: недели не проходит, чтобы я их не перечитывал) те стихи Евтушенко, которые суть мемориал мгновения, а таких стихов он написал очень много. Не дальше, чем вчера, я декламировал «Идут белые снеги» на музыкальном канале, где открыто кажут соития, и веснушчатая одиннадцатилетняя пигалица записала имя поэта в заветный блокнотик.
Мне близка даже его патологическая склонность структурировать каждый элемент своей жизни, зафиксировать каждую секунду, задокументировать каждый вздох.
Он умеет писать так, что от совпадающих ощущений становится душно («Старый друг», «Со мною вот что происходит…»).
В те годы, когда стихами он оккупировал Родину, он был самым светлым оккупантом, возведшим в ранг жизненной доктрины активную любовь ко Всему Сущему.
Но иные его стихи, чтение их – пытка. Например, «А, собственно, кто ты такая?!» Или агитки, отзывающие газетной краской. Или выводящие из себя отчеты о поездках по миру, якшании с президентами, поэтами, портовыми шлюхами. В течение одного стихотворения ЕЕ способен пережить озарение и шмякнуться в жижу непроходимой банальщины.
Но от его давних строчек про любовь многие его коллеги завистливо облизываются и по сию пору; он умел писать так, чтобы воображение воспламенялось в секунду.
До момента, пока не начинал рассказывать про бесконечных жен; рассказы, исполненные прямолинейного, как армейский мой старшина, нарциссизма.
Или недавнее стихотворение на смерть Вацлава Гавела, тоже превращенную в повод для солипсического монолога.
По части агиток большего мастера не то, что у нас – в мире не сыщешь. При его умениях, которых веер, такие прямолинейные стишки писать – ну, не знаю. Это как в воздушный мадригал вклеить марочку обесцененных словечек.
Но там, где важны мельчайшие детали, ЕЕ неизменно бесподобен. Ранний ЕЕ – изрядный сочинитель, тогда как его поздние писания обвисают дряблыми, старческими мышцами.
Он разом тончайший лирик и скуловоротный резонёр; иногда кажется, что он горячим дыханием стихов нежных способен растопить лед времени – что он медленно и неумолимо погружается в безумие.
…Но прочтите роман «Не умирай прежде смерти» – и Вы простите ему даже ячество и неискоренимую любовь к корневой рифме!
Любовь к нему не умрет прежде смерти. Эта любовь отпускает все грехи: Он сам этому учил.
Евтушенко. «На смерть Вацлава Гавела»
Теперь все не верят политикам на слово,
Не зная, что тайно у них на уме.
Но люди поверили в Гавела Вацлава,
Спасшего право на слово в тюрьме.
И рядом с примазавшимися нуворишами
К его могиле придут в этот день.
Тень Сахарова, что-то не договорившая.
И Палаха не догоревшая тень.
Всегда оккупация – ложь аморальная
К могиле придет, себя сам не простя.
Танкист, застрелившийся где-то в Моравии,
Нечаянно там раздавивший дитя.
И восемь отважных с коляскою детскою
Придут на могилу, плакаты неся.
Моя телеграмма, наивная, дерзкая,
Туда прилетит, пожелтевшая вся.
Рос я вблизи нумерованных ватников,
Двух арестованных дедушек, внук.
Мир я ушами, глазами ухватывал,
И у ноздрей на свободу был нюх.
Песню поймал среди вьюжного воя,
В ближнем Гулаге ее не забыть.
Сбейте оковы, дайте мне волю,
Я научу вас свободу любить.
Свобода. Успели вовсю измарать ее,
Словно одну из обманутых дур,
Ловко притворные демократии
Тот же скрытый подвид диктатур.
Как нам бациллы бесправия вывести?
Кто в человечестве полностью чист?
Где государство сплошной справедливости,
Кто нас достоин свободе учить?
Как вырабатывать совести правило,
Где вне законов, вражда и война.
Вот что у края могилы Гавела,
Чехия думает, и не одна.
Столько уж лет мы без Гитлера, Сталина,
А на планете всё не путем.
Знаем, что надо свободу отстаивать,
Кто нам подскажет, что делать потом?
Я схожу с ума, когда слушаю Тину Тёрнер
И женщина и мужчина, видно по всему (и слышно), затеяны были природой не для мелкой суеты, смоделированы были для великих дел; они и не отдали себя во власть пошлой суеты, дел много великих наделали и делают.
И о мужчине и о женщине поется в песне: «Будет буря, мы поспорим и поборемся мы с ней».
Но у обоих есть свои Песни.
И оба они всю жизнь сохраняли свои Лица.
Один поет «А я в Россию, домой хочу, я так давно не видел маму» (и покажите мне урода, у которого не сжимается сердце на этой строчке).
Женщина воссияла на экранах в момент, когда мои наблюдения за существами, притязающими называться мужчинами и женщинами, прописавшимися на сцене и экранах, погружали меня в тяжелую мизантропию.
Она как будто из ниоткуда появилась на этих дымящихся руинах, пустилась в шаманский пляс и заголосила; а уж голосище там та-акой!
Мужчина не очень знал всю свою жизнь, с чем едят карьеру; Женщина знала, сама была архитектором собственной.
Они сами сочинили и соорудили свои жизни, познали и боль и пепел; я смотрел на них, на каждого по отдельности, и только что не постанывал, такая же, как вы, жертва удушливых готических будней, где мужчины женоподобны и наоборот.
Когда Ее голос проделывает глиссандо до самой верхней октавы, а Он призывает «идти весне навстречу» и не кукситься, появляется стойкое впечатление, что лучших ощущений просто не бывает.
Разделения на жанры условны. Есть только Мужчины и Женщины, владеющие профессией и собой.
Женщину зовут Тина Тёрнер. Мне неделю назад подарили ее давний сборник All the Best – и всю неделю я его слушаю-переслушиваю, не могу надышаться. Когда вот эта Женщина начинает петь, что-то такое происходит, от чего с ума сойти можно.
Мужчину зовут Михаил Ножкин. Всю неделю говорили о нем в связи с 75-летием, а главного так никто, кажется, и не сказал.